 27 августа 1742 года всем профессорам и адъюнктам Академии были розданы печатные программы лекций, которые им надлежало читать с 1 сентября. На долю молодого русского ученого программой отводилось следующее: «Михайло Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство к географии физической, чрез господина Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной о минералах; також обучать в стихотворстве и штиле российского языка после полудни с 3 до 4 часов». Читались лекции адъюнктом Ломоносовым 4 раза в неделю — по вторникам, средам, четвергам и субботам.
27 августа 1742 года всем профессорам и адъюнктам Академии были розданы печатные программы лекций, которые им надлежало читать с 1 сентября. На долю молодого русского ученого программой отводилось следующее: «Михайло Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство к географии физической, чрез господина Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной о минералах; також обучать в стихотворстве и штиле российского языка после полудни с 3 до 4 часов». Читались лекции адъюнктом Ломоносовым 4 раза в неделю — по вторникам, средам, четвергам и субботам.
Печатная программа публично признавала: знания русского ученого достаточно основательны, чтобы поручить ему подготовку нового поколения. К этому времени Ломоносов, освоив все достижения предшествующей ему мысли в различных областях знаний, стремился к углублению и расширению современных ему представлений. Об этом свидетельствовали записи идей и наметок будущих исследовательских работ Ломоносова, получившие впоследствии название «276 заметок по физике и корпускулярной философии».
Какое же научное наследие имел в своем распоряжении Ломоносов?
В 1543 году вышло величайшее сочинение Коперника «О вращении небесных тел». От этой даты берет начало подлинная научная революция в физике и механике, происходившая на протяжении XVII и захватившая XVIII век. Следовавшие одно за другим изобретения машин для замены физической силы человека механизмами способствовали расцвету прикладных знаний. Не отставали и теоретические науки, прежде всего классическая механика и математика. XVII век как эстафету передал XVIII веку основное направление, характеризующее науку, — рационализм — учение о всепобеждающей силе человеческого разума, убеждение в доступности познания всего существующего.
Уже были сформулированы законы классической механики, открыт И. Ньютоном закон всемирного тяготения, изобретены такие орудия познания материального мира, как микроскоп, телескоп, барометр, термометр. Эти открытия ускорили прогресс науки. Открывая все новые закономерности в явлениях природы, ученые того времени стремились к познанию и объяснению всего материального мира, всей системы мироздания.
Научная деятельность Ломоносова с самого начала была интенсивной. Он разрабатывает атомно-молекулярную теорию строения тел, быстро завоевывает признание как авторитетный химик, занимается минералогией. Не забывает адъюнкт Ломоносов и поэзию. Кстати, именно благодаря поэзии имя Ломоносова стало известно при дворе. Это было немаловажное обстоятельство при тогдашней сложной обстановке в Академии, которая после воцарения Елизаветы Петровны клокотала, как вулкан перед извержением.
За исключением приспешников Шумахера, таких, как зять правителя канцелярии Тауберт, диктаторское положение академической канцелярии, злоупотребления ее главы вызывали возмущение ученых Академии. Засилие иностранцев, особенно немецкого происхождения, всяческие препятствия, которые ставились русским на пути в науку, справедливо расценивались наиболее честными иностранными учеными как забвение заветов Петра I.
Первым против Шумахера открыто выступил астроном, уроженец Франции Жозеф Николя Делиль. В январе 1742 года он подал в Сенат донесение, в котором выдвинул против Шумахера ряд обвинений. Делиль указал, что Академия обременена разными, не отвечающими ее характеру и задачам прикладными учреждениями по части искусств и ремесел, обвинял Шумахера в выдвижении и повышении в званиях немцев; подчеркивалось в донесении, что профессора не имеют возможности управлять Академией.
Вслед за Делилем против Шумахера выступила группа русских во главе с выдающимся изобретателем и механиком, одним из сподвижников Петра I Андреем Константиновичем Нартовым. Воспользовавшись вызовом в начале августа 1742 года в Москву, где в то время в связи с коронацией находился двор и Сенат, Нартов взял с собой целый ряд жалоб академических служителей. На самоуправство Шумахера жаловались комиссар1 Камер, канцелярист Греков, копиист Носов, студенты Шишкарев, Коврин (последние два, а также переводчик Попов — бывшие однокашники Ломоносова по Славяно-греко-латинской академии), ученик гравера Поляков и переводчик Горлицкий. Жалобы академических служителей Нартов передал лично императрице.
В беседе с императрицей Нартов привел достаточно убедительные доказательства печального положения дел в Академии, и 30 сентября Елизавета подписала указ о взятии Шумахера под следствие. Через неделю Шумахер был арестован и более года содержался под караулом в собственном доме. Были опечатаны Кунсткамера, библиотека, книжная лавка.
Ломоносов принял самое деятельное участие в событиях, жалобы на Шумахера он, правда, не подавал, поскольку прошло слишком мало времени со дня его возвращения из-за границы и судить об общем положении дел в Академии он еще не мог. Зато за прошедшие месяцы он достаточно хорошо почувствовал неприязненное отношение к себе некоторых иностранных коллег. Обратил внимание Ломоносов и на то, что русским не дают ходу в Академии. Поэтому он оказался на стороне противников Шумахера.
По рекомендации Нартова, указавшего среди прочих лиц на Ломоносова, молодой адъюнкт был включен в число «способных людей» для ведения академических дел, чтобы в них «остановки и впредь упущения быть не могло». Ломоносов участвовал вместе с академическими переводчиками Рассохиным, Поповым и подканцеляристом Грековым в опечатывании «палат и шкафов» в географическом департаменте, «ведал» академическим собранием, выдавая под расписку бумаги из «архивной каморы» только по личному приказанию Нартова.
Между тем следственная комиссия в составе председателя — адмирала Головина, петербургского коменданта Игнатьева и президента коммерц-коллегии князя Юсупова приступила к разбору дела Шумахера. Верховодил в комиссии не Головин, а князь Юсупов. Именно Юсупов придал следствию предвзятый характер. Он рассматривал жалобы академических служителей как выступления подчиненных против начальства, как нечто сродни бунту. К тому же поднаторевший в интригах Шумахер искусно защищался. Он прикинулся этакой невинной овечкой, заявляя, что он-де, мол, человек подначальный, Академией ведали, дескать, президенты, а он только исполнял их волю. А что касается наук, лукавил Шумахер, то сами профессора занимались ими. Он, Шумахер, и академическая канцелярия якобы держались в стороне.
Задан был Шумахеру следственной комиссией и вопрос о том, почему Академия за 18 лет не подготовила ни одного русского профессора. Отвечая на этот вопрос, Шумахер козырнул, в частности, именем Ломоносова. По его словам, «для произведения в профессоры русские адъюнкты имеются: Ломоносов и Теплов, также и переводчики Горлицкий и студент Крашенинников в то же достоинство произойти, ибо в них надежда есть». Пущены были в ход и личные связи правителя канцелярии. Усилия покровителей Шумахера, изворотливая, ловкая его самозащита, заступничестве за подследственного профессоров Академии Я. Штелина, Миллера, Крафта делали свое дело — Шумахер выходил сухим из воды.
В конце концов комиссия нашла виновным Шумахера лишь в присвоении казенного вина на сто девять рублей и несколько копеек, хотя, по подсчетам жалобщиков, он растратил на собственные нужды двадцать семь тысяч рублей. Более того, комиссия сочла виновным не Шумахера, а жалобщиков и приговорила их к битью плетьми и батожьем. Елизавета Петровна не утвердила, правда, представления комиссии и повелела «отрешенных» от Академии жалобщиков принять обратно на службу. Однако осмелевший Шумахер не выполнил этого приказания, заявив Сенату, что на места «отрешенных» уже набраны другие.
Когда шло следствие по делу Шумахера, Ломоносов по пылкости характера попал в беду. 6 мая 1743 года одиннадцать академиков и адъюнктов во главе с Г. Миллером подали в следственную комиссию жалобу на «продерзостные выходки» адъюнкта Ломоносова, оскорбившего профессора Винсгейма и адъюнкта Трускотта. В жалобе говорилось: «Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем он, Ломоносов... приходил в ту палату, где профессоры для конференций заседают и в которой в то время находился профессор Винсгейм, и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы, мимо них прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты, а идучи мимо профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и, крайне поносный знак (кукиш) самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделав, пошел в оный географический департамент, в котором находились адъюнкт Трескот (Трускотт. — Г. Л.) и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Сверх того, грозил он профессору Винсгейму, ругая его всякою скверною бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором».
Гнев Ломоносова был вызван тем, что его в феврале 1743 года вывели из состава членов конференции Академии.
Следственная комиссия вызвала Ломоносова для разбора жалобы. Но Ломоносов давать показания отказался. Ломоносов мотивировал свой отказ тем, что он находится в подчинении Академии, а не комиссии. Тогда по приказу комиссии он был заключен под караул. Но и сидя под караулом в здании Академии наук, он отказался давать показания комиссии и даже подал просьбу в Академию: «Под... арестом содержусь я... отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций. А понеже от сего случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое бы я, нижайший, других моим учением пользовать мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит, ибо я, нижайший, нахожусь от сего напрасного нападения в крайнем огорчении. И того ради императорскую Академию Наук покорно прошу, дабы соблаговолено было о моем из-под ареста освобождении для общей пользы отечества старание приложить».
Нартов пытался вызволить Ломоносова из беды, следственная же комиссия находила нужным строго наказать строптивого адъюнкта. Но тут вмешался Сенат, ставший на сторону Ломоносова. 18 января 1744 года из высшего правительственного учреждения последовало распоряжение: «Оного адъюнкта Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а во объявленных учиненных им продерзостях у профессоров просить ему прощения». С высоко поднятой головой явился Ломоносов в Сенат расписываться под сенатским распоряжением. На великолепной латыни, которую (в частности, Трускотт) в Академии не все «разумели», произнес требуемое извинение.
В этом столкновении Ломоносов считал себя правым. Пусть он погорячился, но разве в Академии не было в действительности засилия иностранцев? Ладно бы, в ней все были настоящими учеными. Но имеют профессорское звание люди, подобные Винсгейму — бывшему домашнему учителю, приспешнику Шумахера, официально числящемуся профессором астрономии и секретарем Академии, а на деле занимающемуся лишь составлением академических календарей. За какие научные заслуги присвоено звание адъюнкта и унтер-библиотекаря Тауберту? Только за то, что он зять Шумахера.
Почему его, Ломоносова, уже сказавшего свое, оригинальное слово в науках, отстранили от участия в академическом собрании? Зачем понадобилась такая волокита при присвоении звания адъюнкта? Только затем, чтобы унизить его — крестьянского сына. А еще потому, что он — русский.
Отставить себя от наук он не позволит. Его занятия, способности, страстное желание служить отечественной науке преодолеют все козни врагов.
Горячее стремление быть полезным отечеству не покидало Ломоносова даже в неуютной арестантской каморе, где он находился с мая 1743 по январь 1744 года. И здесь он не бросает усиленно трудиться. Он подает в Академию просьбу выдать ему «для упражнения и дальнейшего происхождения в науках математических Невтонову физику и Универсальную арифметику, которые обе книги находятся в Книжной академической лавке». Находясь под арестом, он вчерне завершает фундаментальную работу — курс «Риторики». Здесь же он пишет диссертацию «О тепле и стуже». А «неприятелей наук российских» и своих врагов Ломоносов изобличает в поэтической форме:
Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.
Вещает ложь язык врагов,
Десница их сильна враждою,
Уста обильны суетою;
Скрывают в сердце злобный ков.
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти,
Их речь полна тщеты, напасти
Рука их в нас наводит лук.
Это поэтическое обличение появилось в печати в то время, когда его автор числился официально как «колодник Ломоносов». Впрочем, история создания этих стихов настолько необычна, что о ней стоит рассказать подробнее.
* * *
Как уже говорилось, заочного теоретического спора о системе русского стихосложения между Ломоносовым и Тредиаковским не получилось. Ко времени возвращения в Петербург Ломоносов ничего не знал «о возражениях» Тредиаковского. Встреча между поэтическими соперниками была неизбежна. Знакомство не положило конца разногласиям. Правда, под влиянием поэтических образцов Ломоносова позиция Тредиаковского изменилась, однако не со всеми доводами своего соперника маститый филолог согласился.
Особо жаркие споры разгорелись по поводу того, в каких жанрах можно употреблять те или иные размеры стихов. Ломоносов полагал, что каждый из выявленных им стихотворных размеров имеет только ему одному присущую экспрессивно-эмоциональную выразительность и поэтому должен использоваться в зависимости от «состояния и важности материи». По мнению же Тредиаковского, «ни которая из сих стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности, но что все сие зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в свое сочинение». Каждая из сторон продолжала с жаром настаивать на своем. Особую остроту спору придавало то обстоятельство, что в дискуссиях участвовал и третий, который в какой-то степени был учеником и Ломоносова и Тредиаковского. Этим третьим был будущий поэт Александр Петрович Сумароков.
Отец Сумарокова Петр Панкратьевич готовил сына к военной карьере. Он дал ему хорошее домашнее образование, причем русскому языку обучал мальчика лично. Иностранным языкам Сумарокова обучали, разумеется, иноземные гувернеры. Весной 1732 года Александр Сумароков поступил в Сухопутный шляхетный кадетский корпус.
Военные науки мало привлекали Сумарокова. В корпусе он с увлечением участвовал в драматических спектаклях, с которыми кадеты выступали на придворных празднествах; его неудержимо тянуло к поэзии. Особенно удавались юному Сумарокову любовные песни. Их распевали и в дворянских усадьбах и в «людских» избах. Нежная грусть, тихая задумчивость, жалобы на разлуку с любимым встречали сочувственный отклик в сердцах всех.
Что ты тужишь, я то знаю,
Да не можно пособить.
И сама, мой свет, вздыхаю,
Да нельзя тебя любить.
Стыд и страх мне запрещают
Сердце поручить тебе,
И невольно принуждают
Не любить и быть в себе.
Теоретический трактат Тредиаковского Сумароков приобрел немедленно после появления его в свет. Он внимательно изучил «Новый краткий способ к сложению российских стихов» и стал использовать предложения Тредиаковского в своем творчестве.
Поэтическое новаторство Ломоносова Сумароков принял не сразу. Познакомившись (по всей видимости, через Тредиаковского) с одой «На взятие Хотина», он даже написал на нее эпиграмму. Однако вскоре резко отрицательное отношение к поэтическому творчеству Ломоносова изменилось. Быть может, способствовало тому изменению личное знакомство.
Когда и где познакомились Сумароков и Ломоносов, неизвестно. Произошло это, вероятно, вскоре после возвращения Ломоносова из-за границы. Ледок отчуждения между представителем древнего боярского рода и бывшим вольным помором растаял быстро. Общий интерес к поэзии неудержимо тянул их друг к другу». Вспоминая об этой поре, Сумароков впоследствии писал: «Господин Ломоносов со мною несколько лет имея короткое знакомство и ежедневное обхождение... Мы были с ним приятели и ежедневные собеседники и друг от друга здравые принимали советы». Обстоятельно ознакомившись с ломоносовской реформой русского стихосложения, Сумароков целиком принял ее. Забегая вперед, отметим, что впоследствии Сумароков сумел внести и свои существенные коррективы в теорию стихосложения. Он дополнил метрическую систему Ломоносова амфибрахием — трехсложной стопой о расположением ударного слога между двумя безударными. Указал также Сумарков и на неизбежность употребления в русской поэзии пиррихиев — пропусков ударения в ритмически сильном слоге ямба и хорея.
В споре между Ломоносовым и Тредиаковским Сумароков стоял на стороне первого. Более того, именно он предложил разрешить этот спор поэтическим состязанием. Старшие коллеги с предложением согласились, Ломоносов, сидевший летом 1743 года «под караулом», назвал созвучную его тогдашнему настроению тему — псалом 143-й. Это предложение не вызвало возражений.
Почему выбор пал именно на 143-й псалом? В возникшем задолго до появления христианства Ветхом завете псалмы — древние религиозные и светские гимны и песни — составляют едва ли не самую богатую оттенками чувств, настроений часть. По библейским преданиям, сочинением псалмов занимались мифические Адам, Сет, Енох. Множество псалмов приписывает Ветхий завет царю древнего Израиля Давиду.
Выбранный поэтами в качестве объекта состязании 143-й псалом — это молитва-обращение к богу тогда еще безвестного юноши-пастуха Давида перед его поединком со страшным великаном Голиафом, с которым никто не решался вступать в единоборство. Голиаф — представитель филистимлян — захватчиков и поработителей других народов.
Созвучной настроению Ломоносова оказалась тема 143-го псалма. Его коллег привлекала сама идея поэтического состязания, возможность практическим путем решить теоретический спор.
Суть теоретических разногласий взялся разъяснить читателям Тредиаковский. По его словам, Ломоносов и Сумароков находили, что такая высокая материя, как псалом, требует ямба, поскольку ямбическая стопа «сама собою имеет благородство для того, что она сама возносится снизу вверх, отчего всякому чувствительно слышится высокость ее и великолепие». Тредиаковский же полагал, что и такая высокая тема может быть изложена хореем.
Сумароков, служивший адъютантом у фаворита Елизаветы Петровны Алексея Григорьевича Разумовского, сумел заинтересовать состязанием своего патрона. Разумовский, в свою очередь, поведал о необычном споре генерал-прокурору князю Никите Юрьевичу Трубецкому. Последний отдал распоряжение Академии напечатать все три переложения отдельным изданием «на кошт» (на счет) авторов. Так в самом конце 1743 года появились в продаже «Три оды парафрастические Псалма 143, сочиненные через трех стихотворцев, из которых каждой одну сложил особливо».
В издании переложения были напечатаны без подписей авторов, и читателям предлагалось узнать самим, кому какое произведение принадлежит.
Напоенные страстным гневом и ненавистью к «филистимлянам» строки Ломоносова приводились («Меня объял чужой народ...»). В интерпретации Сумарокова соответствующие строки выглядели так:
Простри с небес свою зеницу,
Избавь мя от врагов моих;
Подай мне крепкую десницу,
Изми мя от сынов чужих;
Разрушь бунтующи народы,
И станут брань творящи воды...
Нетрудно заметить, что в стихах Сумарокова отсутствуют ломоносовские боль и гнев. И совсем уж смиренными оказались стихи Тредиаковского:
На защиту мне смиренну
Руку сам простри с высот,
От врагов же толь презренну.
По великости щедрот,
Дарую способ и избавлюсь;
Вознеси рог и прославлюсь:
Род чужих, как буйн вод шум,
Быстро с воплем набегает,
Немощь он мою ругает
И приемлет в баснь и в глум.
К сожалению, не сохранилось сведений о том, узнали ли читатели, кому какое переложение принадлежало. Что касается поэтических и идейных достоинств переложений, то ответ на вопрос, чье произведение лучше, дан был читателями вполне определенно. В рукописных сборниках XVIII века не встречается переложений псалма 143-го, принадлежащих перу Сумарокова и Тредиаковского. В то же время произведение Ломоносова переписывалось безымянными читателями множество раз.
* * *
Едва освободившись от ареста, Ломоносов снова приступил к интенсивной научной и педагогической деятельности. Он обучал физике А. Г. Протасова (впоследствии профессор анатомии Академии наук) и С. К. Котельникова (впоследствии замечательный математик, профессор и почетный член Петербургской Академии наук). Он вел систематические наблюдения над грозовыми явлениями, занимался изучением действия растворителей на растворимые тела, производил опыты по теории магнетизма. О напряженности и плодотворности научных изысканий Ломоносова в тот период свидетельствовали три работы, представленные им в академическое собрание 7 декабря 1744 года: «О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном», «О действии растворителей на растворимые тела», «Физические размышления о причинах теплоты и холода». Каждая из этих работ была новым словом в науке.
Чрезвычайно интересными и необычно обставленными были, к примеру, опыты Ломоносова, которые легли в основу его работы «О действии растворителей на растворимые тела». При опытах, присутствовал приглашенный русским ученым беспристрастный посторонний наблюдатель — адъюнкт Академии X. Э. Геллерт. Сами опыты были уникальными явлениями в тогдашней химической науке.
4 мая 1744 года Ломоносов и Геллерт сошлись в физическом кабинете Академии. Пока адъюнкт устраивался в кресле, выбрав удобную точку для наблюдений, Ломоносов раскладывал на столе необходимый инструментарий. Наконец все было готово, и опыт начался.
Русский ученый взял две медные монеты — полушки, взвесил их. Одна оказалась тяжелее другой. Несколько движений напильником по более тяжелой монете, снова взвешивание. Эта операция продолжалась до тех пор, пока обе монеты не приобрели абсолютно одинаковый вес. «Затем, — со все возрастающим интересом записывал Геллерт, — он опустил их в одно и то же мгновение в два стеклянных сосудика». Сосудики были наполнены одинаковым количеством «крепкой водки» — то есть азотной кислоты. Потом один сосудик был отставлен в сторону, а другой помещен под колокол, из-под которого с помощью насоса стал удаляться воздух. Откачивая воздух, Ломоносов заметил адъюнкту, что его цель — выяснить: «Быстрее ли совершается растворение в пустоте или на открытом воздухе».
Через 10 минут (время тщательно фиксировалось по часам) обе монеты были извлечены из сосудиков. Взвешивание показало, что монета, испытывавшая действие растворителя «в пустоте», весила на 15 гранов2 больше. Изящный опыт подтвердил — присутствие воздуха ускоряет растворение.
В том же месяце Геллерт стал свидетелем еще двух опытов Ломоносова, которые подтвердили незыблемость выводов, следовавших из первого эксперимента.
Сначала русский ученый два куска обыкновенней соли одинакового веса опустил в два сосуда, заполненных одинаковым количеством воды. Опять один сосуд был доступен для «вольного воздуха», из другого воздух был удален. Через два часа вынутые из сосуде в «похудевшие» кусочки соли были взвешены. Соли «на вольном воздухе» растворилось на 12 гранов больше.
Третий опыт, проделанный в один день со вторым, приведем в записи Геллерта:
«Медную монету, так называемую денежку, весом в 120 гранов клал в крепкую водку, освобожденную от воздуха, на 10 минут; то, что оставалось, весило 46 гран. Подобной же монете в 104 грана он давал раствориться в течение 10 минут, не освобожденной от воздуха; остаток весил 19 гранов. Таким образом, крепкая водка, не освобожденная от воздуха, растворила на 11 гранов меди больше».
Проведение всех трех опытов Геллерт зафиксировал в письменном виде.
Ломоносов своими опытами совершал подлинный переворот в химии того времени: впервые в науке проводились опыты, где применялся не качественный метод, господствовавший в исследованиях химиков, а метод количественный.
Еще более значительной по научным результатам была другая работа Ломоносова, представленная академическому собранию вместе с только что описанной 7 декабря 1744 года. Эта работа называлась «Физические размышления о причинах теплоты и холода» и была посвящена изучению тепловых явлений.
Чем же замечательно было исследование Ломоносова? Что нового вносил он в науку? Чтобы ответить на эти вопросы, совершим экскурс в историю изучения тепловых явлений.
Первые суждения о природе теплоты содержались еще в трудах античных философов. Демокрит, например, полагал, что тепловые явления связаны с движением мельчайших частиц материи — атомов. По его мысли, специальные тепловые атомы шаровидной формы в процессе движения врезаются в различные тела, вызывая «действия, именуемые теплотой».
На иных позициях стоял Аристотель. Согласно его теории теплота — одно из четырех (теплота, холод, сухость и влажность) «первичных качеств». По Аристотелю, «первичное качество» — «теплота» в сочетании с подобным же качеством «сухости» образуют огонь, являющийся общим началом всех горючих тел. Эти воззрения античного ученого были восприняты ортодоксальным христианством.
Труды корифеев науки XVII столетия — Ф. Бэкона, Р. Декарта, П. Гассенди, Р. Гука, И. Ньютона, Р. Бойля — пополнили демокритовские представления о теплоте, как о движении атомов. Р. Бойль, например, уже стоял на позициях кинетических представлений о природе теплоты. Об этом, в частности, он писал в своей работе «Эксперименты и заметки о происхождении тепла и холода, а также об их механическом воспроизведении»: «Сущность теплоты состоит либо полностью или хотя бы главным образом в том свойстве теплоты, которое мы называем механическим местным движением». Вместе с тем Бойль разделял воззрения ученых о существовании некой специфической «материи теплоты» или, как эту «материю» называли в XVII — XVIII веках, — «теплорода».
Однако если для античных философов теория теплоты представляла лишь научный, умозрительный интерес, то для науки XVII — XVIII веков эта теория имела уже и прикладное значение. Изобретение одноцилиндровых паровых машин требовало выявления количества теплоты. Иначе «джинн, запертый в сосуд», грозил при небрежном обращении с собой взрывом, самыми серьезными последствиями.
В таких условиях рабочая гипотеза о теплороде как особой материи тепла была приемлема. Пользуясь этой теорией, не вдававшейся в физическую природу теплоты, Ньютон экспериментально установил закон охлаждения тел лучеиспусканием и впервые ввел в науку наряду с температурой понятие о количестве теплоты.
В ломоносовской работе «Физические размышления о причинах теплоты и холода» последовательно развивалась молекулярно-кинетическая теория тепловых явлений. Ломоносов решительно выступил в своем исследовании против существования «теплорода». Таким образом, он более чем на полстолетия опередил ученых своего времени.
Не менее аргументированно отверг Ломоносов и другую широко распространенную в науке теорию — теорию особой материи огня — флогистона. Доказывая ошибочность подобных воззрений, русский ученый на побоялся выступить против выводов признанных авторитетов в науке, таких, как Р. Бойль. Знаменитый английский ученый доказывал существование флогистона тем, что при действии огня на металлы вес металлов увеличивается за счет присоединения к ним субстанции огня — флогистона. Ломоносов блестяще раскрыл ошибочность подобного заблуждения: «Так как окалины, удаленные от огня, сохраняют приобретенный вес даже на самом лютом морозе, и однако они не обнаруживают в себе какого-либо избытка теплоты, то, следовательно, при процессе обжигания к телам присоединяется некоторая материя, только не та, которая приписывается собственному огню, ибо я не вижу, почему последняя в окалинах могла забыть о своей природе».
Ошибочность воззрений Р. Бойля о приращении веса металлов при прокаливании Ломоносов доказал и экспериментально. Бойль ставил такой опыт. Брал стеклянный сосуд, в него помещал кусочек металла. Затем сосуд с металлом держал над пламенем. Обнаружив, что до прокаливания вес металла был меньше, чем после, Бойль утверждал, что материя огня проникла сквозь стекло и присоединилась к металлу.
Ломоносов не стал повторять опыт Бойля. Уверенный, что Бойль заблуждался, он поместил металл в заплавленные сосуды. Многократное повторение опыта с изменением давления в заплавленных сосудах от одной атмосферы до почти чистого вакуума вскрыло ошибочность выводов предшественника. «Оными опытами нашлось, — подчеркивал Ломоносов, — что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла останется в одной мере».
Придя к выводу, что тепловые явления обусловлены движением молекул, Ломоносов попытался выяснить и характер этого движения. Анализ трех видов движения — поступательного, колебательного и вращательного — привел его к убеждению, что «причина теплоты состоит во внутреннем вращательном движении». По его мысли, чем выше температура тел, тем быстрее движутся частички. Эти идеи великого русского ученого более чем на столетие опередили развитие науки его времени. Лишь в 20-х годах XIX века английский физик и химик Гемфри Дэви попытался объяснить тепловые явления вращательным движением молекул. Идея Дэви, чуть не дословно совпадавшая с суждениями Ломоносова, была подхвачена учеными XIX века — В.-Дж.-М. Ренкином, Дж.-П. Джоулем и другими. Атомно-кинетические представления о теплоте были необходимой вехой к современной статистической теории теплоты. И в начале этого пути стоял Ломоносов.
Ученые Академии не смогли по достоинству оценить идеи Ломоносова. Особенно возмутило членов академического собрания непочтительное отношение молодого адъюнкта к имени Бойля. Протокол заседания конференции, где обсуждалось исследование Ломоносова, об отношении «господ ученых» повествует так: «Некоторые из академиков вынесли о ней (то есть о работе. — Г. Л.) такое суждение: нужно похвалить охоту и прилежание г-на адъюнкта, занявшегося изучением теории теплоты и холода; но им кажется, что он еще слишком преждевременно взялся за дело, которое, по-видимому, пока находится выше его сил... Затем г. адъюнкту поставили на вид, что он поносит в своем произведении Бойля, столь известного своими трудами: он извлек из писаний Бойля те места, в которых этот последний как будто говорит вздор, но обошел многие другие, в которых Бойль дал образчики глубокой учености. Г-н адъюнкт отрицал преднамеренность своего поступка».
Эту работу Ломоносова, как и опыты с растворителями, ученые Академии не смогли оценить в полной мере. Об этом свидетельствует и решение канцелярии Академии от 7 июля 1747 года по поводу обоих исследований Ломоносова. В решении записано, что канцелярия сочла нужным «послать к почетным Академии членам Эйлеру, Бернулию и к другим, какое об оных мнение дадут и можно ли оные напечатать, ибо о сем деле из здешних профессоров ни один основательно рассудить довольно не в состоянии».

Леонард Эйлер был выдающимся ученым, человеком универсальных интересов в самых различных областях естественных и точных наук. Перед именем и авторитетом этого ученого преклонялась вся мировая наука того времени. Эйлер откликнулся на просьбу канцелярии и прислал письмо, оконфузившее хулителей Ломоносова: «Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и невозможны были к истолкованию самым остроумным ученым людям, с таким основательством, что я совсем уверен в точности его доказательств. При сем случае я должен отдать справедливость Ломоносову, что он одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических. Желать надобно, чтобы все прочие академики были в состоянии показать такие изобретения, которые показал господин Ломоносов».
Несмотря на холодный прием своих «специменов» в Академии, Ломоносов стал добиваться профессорского звания. 30 апреля 1745 года он подал в канцелярию «репорт»: «В бытность мою при Академии Наук трудился я, нижайший, довольно в переводах физических, химических, механических и пиитических с латинского, немецкого и французского языков на российский и сочинил на российском же языке «Горную книгу» и «Риторику» и сверх того в чтении славных авторов, в обучении назначенных ко мне студентов, в изобретении новых химических опытов, сколько за неимением лаборатории быть может, и в сочинении новых диссертаций с возможным прилежанием упражняюсь, чрез что я, нижайший, к вышепомянутым наукам больше знания присовокупил, но точию я по силе онаго обещания профессором не произведен, отчего к большему произысканию оных наук ободрения не имею». Просто отмахнуться от подобного прошения Шумахер уже не мог. Правитель канцелярии знал, что Ломоносову покровительствует участник переворота 25 октября 1741 года граф Михаил Илларионович Воронцов. Именно Воронцов подал в Сенат переведенную Ломоносовым «Волфианскую Експериментальную физику». На препровожденном Сенатом для свидетельства в Академию переводе стояло посвящение графу Воронцову. Кроме того, Шумахеру было известно, что Ломоносов приобрел вес у самой императрицы. По заданию Кабинета Елизаветы Петровны русский ученый производил «пробы» различных солей и слюды. Его экспертиза трех видов солей — «шпанской, сантутской и заморской», — поданная в кабинет императрицы, удостоилась «высочайшей апробации» (одобрения). Обычная поваренная соль в XVIII веке была чрезвычайно ценным и необходимым продуктом. Именно с тех времен бытует выражение «уйти не солоно хлебавши». Центры соляных промыслов были удалены от Петербурга. Солеварение, перевоз соли были чрезвычайно трудоемки. Соль стоила дорого. Солить кушанья могли позволить себе только богатые люди. В бедных домах соль была дорогостоящим деликатесом. Таким образом, искусство Ломоносова в оценке качеств солей различных месторождений ценилось весьма высоко.
Все эти обстоятельства Шумахер учел. Нет, он не отказал прямо Ломоносову. Правитель канцелярии встал «в благородную позу», посоветовал Ломоносову «повременить» с профессорством, пока другие русские получат повышение в научных званиях. Однако и Ломоносов был уже не тот, что раньше. На выдержанный в самых изысканных выражениях отказ Шумахера последовала не менее вежливая записка Ломоносова: «Ваше благородие изволили дать мне понять, что мне следовало бы повременить вместе с другими, которые тоже добиваются повышения. Однако мое счастье, сдается мне, не так уж крепко связано со счастьем других, чтобы никто из нас не мог опережать друг друга или отставать один от другого». А чтобы Шумахер «не запамятовал», что Ломоносов теперь не так уж одинок в Петербурге, в записке писалось: «Вам принесет более чести, если я достигну своей цели при помощи Вашего ходатайства, чем если это произойдет каким-либо другим путем». Дав официальный ход делу, Шумахер попытался оттянуть его решение. Несколько раз он не явился на «советование» по поводу присуждения Ломоносову звания профессора. Затем вдруг возникла другая проблема. Русский ученый добивался звания по химическим наукам. Но кафедру химии занимал профессор И.-Г. Гмелин. Блестящий предлог, не правда ли, чтобы отказать русскому ученому?
Однако и это препятствие отпало. Гмелин действительно был отличным химиком. Но помимо этого Иоганн Георг Гмелин, подобно ряду других выдающихся ученых того времени, отличался универсализмом научных интересов. Мы уже упоминали о составлении им «Минералогического каталога». Добавим, что Гмелин был еще и географом и естествоиспытателем в самом широком значении этого слова. Но, безусловно, главным предметом научных интересов Гмелина была ботаника. О Гмелине — авторе фундаментального научного труда — четырехтомной «Флоре Сибири» — основатель систематики растений Карл Линней заметил, что один Гмелин открыл новых растений больше, чем все остальные ботаники мира вместе взятые.
Когда возник вопрос о присвоении Ломоносову профессорского звания, Гмелин заявил, «что он означенную профессию (химию. — Г. Л.) г-ну адьюнкту совершенно уступает, тем паче что для всегдашнего упражнения в истории натуральной, химию оставить принужден был, и для того еще, что в прошедшем году декабря 7 дня канцелярии объявил, что он, оставя Академию, возвратится в отечество свое», т. е. в Тюбинген, откуда Гмелин был родом и куда в самом деле скоро уехал. Пришлось почтенным членам академической конференции уступить настойчивости русского ученого, и 22 июня 1745 года в протоколе было записано: «Дело о Ломоносове было решено окончательно». Но и после этого решения Шумахер не успокоился. Он прочил на кафедру химии своего ставленника А. Бургаве. Ломоносов стал ему, как говорится, поперек дороги. Именно поэтому Шумахер решил отослать работы Ломоносова на отзыв в Берлин к Эйлеру. Расчет был прост. Почетный член Петербургской Академии Л. Эйлер забракует опусы русского ученого, и тогда Ломоносов с позором будет лишен профессорского звания. Однако и этот маневр Шумахера не удался.
Позже в письме к Эйлеру с выражением благодарности за поддержку Ломоносов вскрыл подоплеку махинаций правителя канцелярии: «Когда конференция избрала меня в профессоры и аттестовала, и покойная императрица это утвердила, Шумахер послал вам мои уже одобренные диссертации, надеясь получить дурной отзыв. Но вы поступили тогда как честный человек».
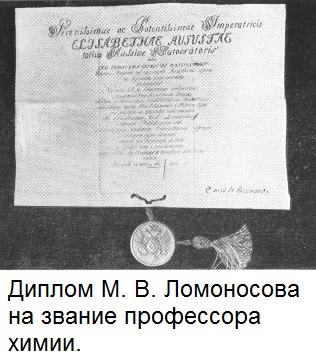 1 июля 1745 года Ломоносов получил в академическом собрании копию протокола о присвоении ему профессорского звания. Через 25 дней указ о профессорстве Ломоносова был подписан Елизаветой Петровной. Еще через 4 дня он был приглашен в Сенат, где ему был зачитан соответствующий указ. На следующий день в церкви святого апостола Андрея Первозванного на 6-й линии Васильевского острова (здание перестроено в 1764 — 1780 годах архитектором А. Ф. Вистом) Тредиаковский и Ломоносов присягнули как профессора Санкт-Петербургской императорской Академии наук.
1 июля 1745 года Ломоносов получил в академическом собрании копию протокола о присвоении ему профессорского звания. Через 25 дней указ о профессорстве Ломоносова был подписан Елизаветой Петровной. Еще через 4 дня он был приглашен в Сенат, где ему был зачитан соответствующий указ. На следующий день в церкви святого апостола Андрея Первозванного на 6-й линии Васильевского острова (здание перестроено в 1764 — 1780 годах архитектором А. Ф. Вистом) Тредиаковский и Ломоносов присягнули как профессора Санкт-Петербургской императорской Академии наук.
Согласно петровской «Табели о рангах», звание профессора Академии соответствовало чину 9-го класса. Следующий, 8-й класс давал право на потомственное дворянство с внесением в третью часть «Гербовника». (В первую часть «Гербовника» вносились князья, графы, бароны, родовые дворяне; во-вторую — лица, «обличенные монаршей милостью», иначе говоря, лица, которым дворянство было пожаловано.) Отныне Ломоносов становился полноправным членом академической конференции. Впервые на заседании конференции как профессор Ломоносов присутствовал 12 августа 1745 года.
Ломоносов стал профессором в тот период, когда вся Академия с нетерпением ждала назначения своего нового президента. С 21 мая 1746 года им стал граф Кирила Григорьевич Разумовский. Новый президент был родным братом тайно повенчанного с Елизаветой Петровной Алексея Григорьевича Разумовского.
Вскоре после воцарения Елизаветы Кирила Разумовский вместе со всей семьей был вывезен из родного хутора Лемеши на Украине в Петербург. Здесь бывший казацкий сын приобрел первые знания. В 1743 году старший брат отправил Кирилу за границу с наставником — адъюнктом Григорием Николаевичем Тепловым. Через два года Разумовский вернулся из чужих краев и был пожалован в действительные камергеры, то есть в чин 6-го класса «Табели о рангах». За три месяца до назначения президентом Академии Кирила Григорьевич отпраздновал свое 18-летие.

12 июня 1746 года новый президент впервые посетил Академию. Вместе с ним был и назначенный асессором академической канцелярии Г. Н. Теплов. В программной речи, обращенной к членам Академии, Разумовский заявил: «За необходимо вам объявить нахожу, что собрание ваше такие меры от первого нынешнего случая принять должно, которые бы не одну только славу, но и совершенную пользу в сем пространном государстве производить могли. Вы знаете, что слава одна не может быть столь велика и столь благородна, ежели к ней не присоединена польза. Сего ради Петр Великий как о славе, так и о пользе равномерное попечение имел, когда первое основание положил сей Академии, соединив оную с университетом».
Все в этой речи импонировало Ломоносову и другим честным ученым Академии. Он согласен был, что наука должна служить прежде всего своему отечеству, что слава должна сочетаться с пользой, то есть с практическими делами, имеющими прикладное значение. Запущенность учебной деятельности Академии тоже вызывала возмущение Ломоносова.
Не в характере русского ученого было откладывать полезные дела в долгий ящик. Сразу же после посещения Разумовского Ломоносов выступил с новым, неслыханным еще в Академии начинанием. Он предложил проводить в Академии публичные лекции всем желающим. Ломоносовская программа (причем по-русски, а не на латыни) предусматривала широкое оповещение о лекциях по всему Петербургу. Приглашения посылались в канцелярию главной конторы артиллерии и фортификации, в Медицинскую канцелярию, в Кадетский корпус, наконец, во дворец императрицы. Уже через 8 дней профессор Михайло Васильевич Ломоносов прочел первую лекцию перед широкой аудиторией. В заметке, опубликованной в «Санкт Петербургских ведомостях», об этой лекции было сказано: «Сего июня 20 дня, по определению Академии наук президента, ее императорского величества действительного камергера и ордена св. Анны кавалера его сиятельства графа Кирила Разумовского, той же Академии профессор Ломоносов начал о физике экспериментальной на русском языке публичные лекции читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских чинов слушателей и сам господин президент Академии с некоторыми придворными кавалерами и другими знатными персонами присутствовал».
Однако надеждам Ломоносова на благотворные перемены в Академии не суждено было сбыться. Лично к нему Разумовский относился хорошо. Но в Академии перемен к лучшему не намечалось. Спокойно чувствовал себя Шумахер, хотя жалоб на его самоуправство было много в Сенате, куда обращались ученые, пока в Академии не было президента. Жаловался Делиль, что его астрономические наблюдения без его ведома переданы Гейнзиусу. Делиль просил Сенат, чтобы «Академия была таким образом установлена, дабы канцелярия не имела никакой власти над профессорами и над принадлежащими вещами до наук, ниже над академическою экономиею». Жаловались профессора Гмелин, Вейтбрехт, Миллер, Лepya, Рихман, указавшие, в частности, что Шумахер сделал «надсмотрщиком над профессорами и адъюнктами» своего зятя Тауберта. В их жалобе указывалось, что Тауберт «произведен в адъюнкты и унтер-библиотекари без ведома Академии». Наконец, все считали необходимым иметь в Академии «регламент, по которому бы она на разные департаменты, касающиеся до наук, разделена была и чтоб каждый профессор над приличным ему департаментом главным был».
Как поступил со всеми этими жалобами Разумовский? В итоге разбора он пришел к выводу, что «советник Шумахер во всех своих поступках перед профессорами прав», и виноватыми оказались профессора, якобы только пекшиеся «о прибавке своего жалования». В результате подобного «объективного разбора» ряд профессоров (Крафт, Вильде, Крузиус, Делиль, Гмелин) ушли из Академии и уехали из России.
Откликнулся Разумовский и на предложение дать Академии регламент. Однако обнародованный 24 июля 1747 года регламент не удовлетворил ученых, ибо о правах канцелярии там говорилось: «Канцелярия учреждается по указам ее импер. величества, и оная есть департамент президенту для управления всего корпуса академического принадлежащий, в которой члены быть должны по нескольку искусны в науках и языках, дабы могли разуметь должность всех чинов при Академии и в небытность президента корпусом так, как президент сам управлять, чего ради и в собрании академиков иметь им голос и заседание. Ученым людям и учащимся, кроме наук, ни в какие дела собою не вступать, но о всем представлять канцелярии, которая должна иметь обо всем попечение». Иными словами, власть Шумахера по-прежнему оставалась безграничной, несмотря на то что во главе Академии стоял президент, а в канцелярии соправителем номинально числился Теплов.
Мог ли полновластно и эффективно управлять Академией Разумовский? Во-первых, он был слишком юн по годам и нерешителен по характеру, чтобы справляться с такими сложными обязанностями. Во-вторых, заочно управлять Академией было просто невозможно. Вскоре после назначения президентом Разумовский со двором удалился из Петербурга. Затем его отлучки стали повторяться все чаще. Наконец в 1751 году Разумовский стал гетманом Украины и с этого времени почти безвыездно жил в своей резиденции сначала в Глухове, а затем в Батурине — «граде... во стране Черкасской в расстоянии от Москвы чрез Калугу 660 верст».
Что же касается Теплова, то его гораздо больше волновали придворные интересы, чем возможность делить в Академии власть с Шумахером. Так и получилось, что регламент 1747 года нисколько не поколебал позиций Шумахера.
Ломоносов академический регламент прокомментировал следующим образом: «В его расположении и составлении никого, сколько известно, не было из академиков участника. Шумахер подлинно давал сочинителю советы, что из многих его духа признаков, а особливо из утверждения канцелярской власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия профессорам происходить высшие чины несомненно явствует. Многие жалели, что оный регламент и на других языках напечатан и подан случай к невыгодным рассуждениям о Академии и в других государствах». Что Ломоносов не заблуждался в размерах власти правителя канцелярии, вскоре подтвердило чрезвычайное происшествие в Академии.
* * *
В пятом часу утра 5 декабря часовой при Кунсткамере Евсей Ленин заметил под кровлей здания языки пламени. Прибывшие по тревоге солдаты гарнизонного и лейб-гвардии пехотных полков, сбежавшиеся жители Васильевского острова, академические служащие бросились спасать экспонаты и книги, находившиеся в пылавшей башне и западном крыле. Много часов продолжалась борьба с разбушевавшейся огненной стихией. Благодаря героическим усилиям солдат и простого люда множество ценных вещей и книг удалось спасти.
О причинах пожара Ломоносов — непосредственный свидетель происшествия — писал: «Разные были о сем пожаре рассуждения, говорено и о Герострате, но следствия не произведено никакого». По его словам, незадолго до пожара в покоях Кунсткамеры, давно не топившихся, были поселены мастеровые люди. Усиленная топка неисправных печей, забитые сажей дымоходы были, по всей видимости, причиной пожара.
Говорят, все тайное со временем становится явным. Однако и в наши дни, двести с лишним лет спустя, когда были выявлены многие описи, в те времена тщательно скрывавшиеся от членов Академии, установить истинные размеры ущерба невозможно. Виновным в сокрытии истины был все тот же Шумахер, сумевший в ситуации, грозившей ему крупными неприятностями, а возможно и отставкой, во-первых, доказать свою невиновность, а во-вторых, значительно уменьшить размеры бедствия.
Благодаря свидетельству Ломоносова, часть «лукавства» Шумахера нам известна. К примеру, пишет русский ученый, «о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то, что онаго в целости не осталось, кроме старой его двери, коя лежала внизу в погребе».
Поведал Ломоносов и еще об одном, чрезвычайно ловком ходе правителя канцелярии. В «Санкт-Петербургских ведомостях» Шумахер поместил статью о посещении музея мальтийским кавалером Сограмозой. Перечисление коллекций, якобы совершенно не пострадавших от пожара, внушало читателям статьи превратные представления о ничтожности ущерба.
Свидетельство Ломоносова дополняют донесения ответственных за каждый отдел музея лиц. Эти донесения говорят, что потери от огня были внушительными. Погибла галерея с этнографическими коллекциями, в которые входили «разные китайские вещи, платье сибирских разных народов, их идолы и сим подобные вещи». Не удалось спасти обсерваторию, «со всеми находившимися в оной махинами, часами, моделями, небесными картами, зрительными трубами, компасами и прочими» инструментами. Погиб уникальный Готторптский большой глобус — своеобразный музей в музее. Этот глобус, изготовленный в 1654 — 1664 годах механиком Андреасом Бушем и художниками братьями Ротгизерами, в 1713 году герцог Голштинский Карл Фридрих подарил Петру I.
Какой же была реакция русской общественности на пожар в Кунсткамере? Общественность расценивала музей как национальную святыню, как предмет национальной гордости. Восполнение потерь русская общественность рассматривала как свой долг. Добровольные поступления стекались со всех концов России. Известный историк В. Н. Татищев в письме к Шумахеру предлагал Академии свою библиотеку, насчитывавшую более тысячи томов, копии подлинников редчайших рукописей. Вслед за письмом Татищев выслал в Кунсткамеру «челюсть нижнюю слоновую с коренными зубами молодого слона», «камень подобен соту», «нечто подобное гороху окаменелому», «марказитовую крупу» и ряд других «раритетов».
Откликнулся на бедствие и простой люд. Сержант Емельян Засов прислал с Охотского моря две камчатские морские рыбы «с крыльями», образцы самородной меди, 20 камней разных цветов, морской орех, морскую утку. Земляк Ломоносова Архангелогородской губернии Куростровской волости крестьянин Осип Дудин прислал мамонтовые кости. Из Иркутской канцелярии поступили «змеиные рожки» бобра «самого большого роду» и «троегранная моржевая кость». Из Тюмени поступило чучело «белой лисицы» и т. д.
О размерах бедствия косвенно свидетельствует и то обстоятельство, что остатки библиотеки и коллекций вполне разместились в доме дворян Демидовых, где было 16 небольших комнат площадью не более 18 квадратных метров каждая, зал и вестибюль. А между тем комиссия, во главе которой стоял зять правителя канцелярии Тауберт, «всеподданнейше» доносила, что ущерб незначителен.
С обгоревшим остовом здания надо было что-то делать. Для этого в январе 1748 года была создана специальная архитектурная комиссия. Архитекторы пришли к заключению о возможности возрождения Кунсткамеры, поскольку фундаменты оказались хорошими. Члены комиссии предложили разобрать «фронтошпицы» — фронтоны по краям здания, нарастить столбы, а верхние залы сделать сводчатыми, как это мыслилось при Петре I.
Начальный этап восстановления Кунсткамеры едва ли можно признать удачным. Дело в том, что проект и смету восстановления здания Кунсткамеры составлял на этом этапе весьма заурядный архитектор, брат правителя канцелярии Академии Иоганн Яков Шумахер. Насколько неудачны были предложения архитектора Шумахера, свидетельствуют слова официального документа — указа об увольнении его со службы «как за окончанием его контракта, так наипаче за неприлежное отправление по должности». Тем не менее это «неприлежное отправление по должности» продолжалось целых семь лет — с 1748 по 1755 год.
После отставки Шумахера к восстановлению Кунсткамеры был привлечен замечательный русский архитектор С. Я. Чевакинский. К восстановлению здания Чевакинский отнесся творчески. Он внес ряд изменений в архитектурный облик башни, карниза, фронтонов. По существу, проект Чевакинского являлся самостоятельным вариантом архитектурного оформления здания.
В Кунсткамере не все наметки замечательного зодчего были воплощены в натуре. Это было вызвано тяжелыми условиями работы архитектора, мелочной опекой над всеми его действиями со стороны академической канцелярии. Члены академической Комиссии по выстройке погорелых палат — Штелин и Тауберт, совершенно некомпетентные в архитектурно-строительных вопросах, вмешивались во все детали строительных работ. Чевакинскому пришлось объяснять достопочтенному профессору элоквенции Штелину и унтер-библиотекарю Тауберту, что чертежи и рисунки в данной ситуации невозможно давать заранее — их приходится делать по ходу работ. Бестолковые указания членов комиссии привели к тому, что Чевакинский оказался в затруднении — по какому же проекту вести строительство?
В феврале 1757 года Разумовский отдал распоряжение «присутствовать» в академической канцелярии Ломоносову. Это назначение давало возможность русскому ученому непосредственно и полноправно вмешиваться в хозяйственные и административные дела Академии. Хотя Ломоносов был до предела загружен самыми разнообразными обязанностями, он находил время и для вмешательства в строительные дела.
Но и Ломоносов ненамного ускорил строительство. Сказывалось то, что Чевакинскому пришлось в некоторых случаях идти на компромисс из-за противоречивых требований Комиссии по выстройке погорелых палат. Архитектор, недовольный тем, что Академия отвергла его проект оформления интерьеров здания, стал не слишком рьяно относиться к своим обязанностям. В результате в марте 1758 года архитектор был уволен, якобы ввиду окончания работ. Академическим архитектором снова стал Шумахер.
К тому времени строительных работ оставалось немного. Завершалась настилка каменных полов и кладка стен кирпичных кабинетов башни, устанавливались расписные печи. Тогда Кунсткамера приобрела тот внешний облик, который с незначительными изменениями просуществовал более двухсот лет. Наиболее существенным изъяном нового вида Кунсткамеры было отсутствие вышки.
В 1946 году по предложению Президиума Академии наук СССР было решено реконструировать здание с учетом изменений, внесенных в облик Кунсткамеры Чевакинским, но с одной существенной поправкой. Вышку здания решено было восстановить в первоначальном виде. Автором проекта реставрации стал Р. И. Каплан-Ингель. В 1948 году Кунсткамера приобрела тот вид, которым мы любуемся и сегодня. 8 мая 1947 года Президиум Академии наук СССР обнародовал постановление об организации в Кунсткамере мемориального музея М. В. Ломоносова.
Добавить комментарий